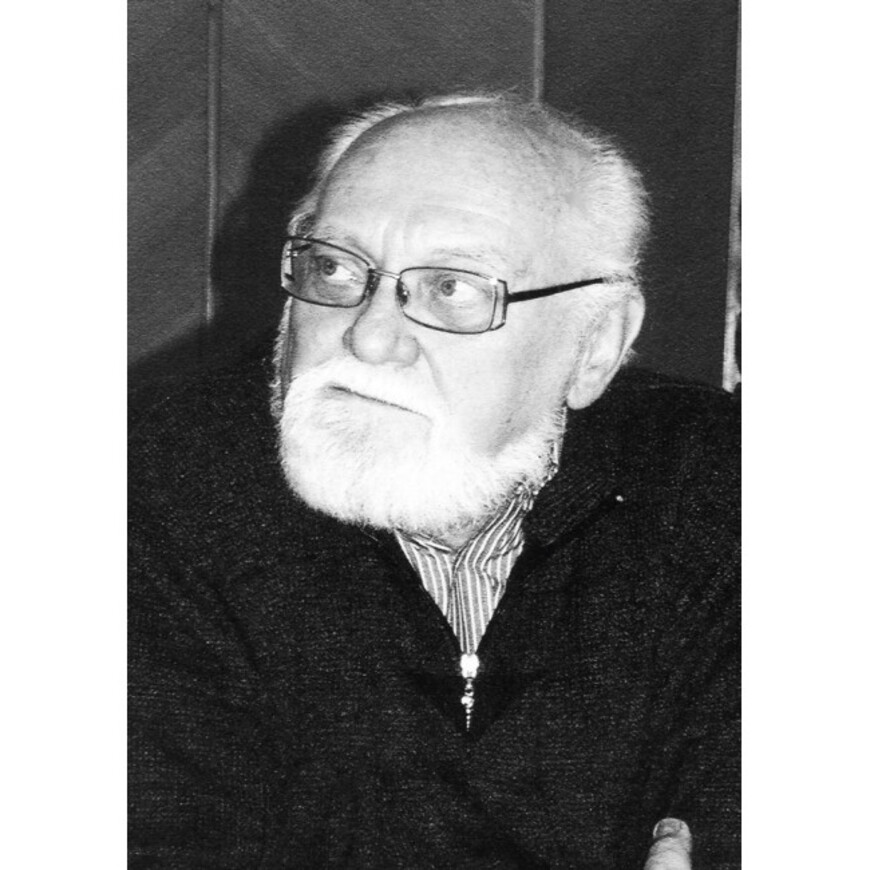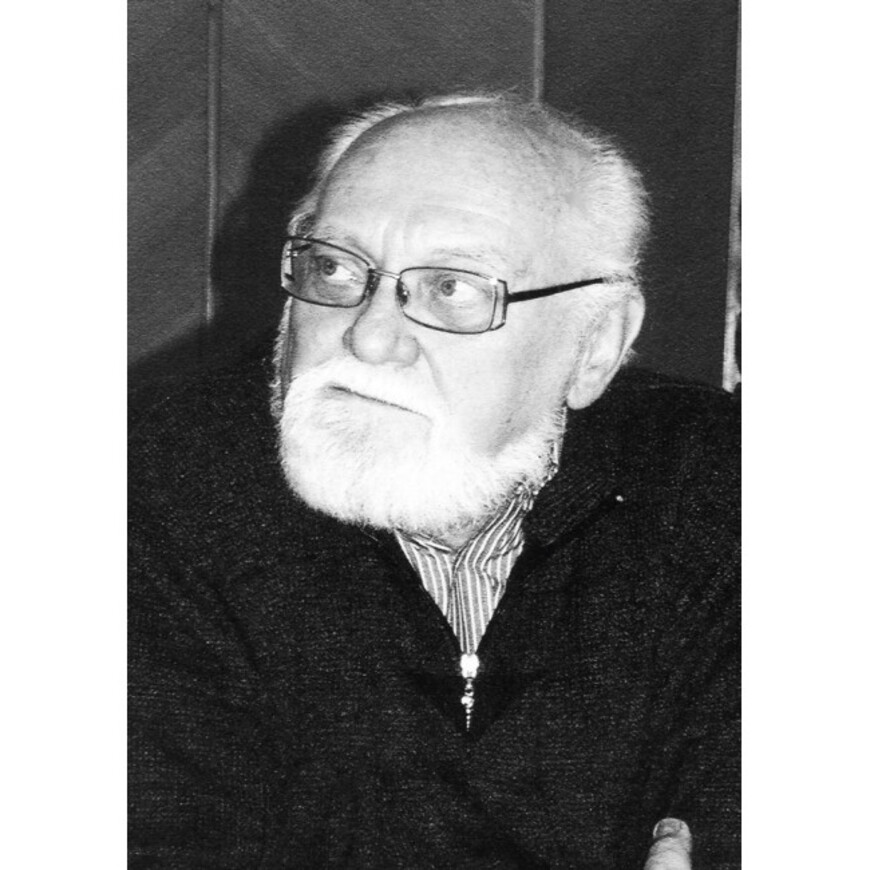Интересно, найдется ли сегодня, кто помнит, или хотя бы слышал об учителе Толмачевской средней школы Николае Дмитриевиче Солохине, личности по настоящему замечательной. В поселке Толмачево он жил недолго, около двух лет, но этот период оказался знаковым для его биографии, ставшей темой данной статьи.
Родился Н.Д. Солохин в Вологодской области. В 1958 году он окончил филологический факультет ЛГУ. Вдохновленный хрущевской оттепелью, разоблачением культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС, Николай стал критически относиться к советской государственной системе. Не отвергая марксистских позиций, он считал возможным сочетание марксисткой методологии и демократических убеждений. За эти якобы антисоветские взгляды он был осужден Ленгорсудом по статье 58 ч. 11 УК РСФСР сроком на 6 лет. Отбывал срок в Озерлаге (Иркутская обл.) и Дубровлаге (Мордовская АССР).
И.Д. Солохин не был бунтарем-одиночкой. В ЛГУ у него было несколько единомышленников, прошедших вместе с ним по одному делу. После отбытия наказания некоторые из них стали активными правозащитниками. Солохин же переключился на преподавательскую, литературную, журналистскую и краеведческую деятельность.
После освобождения он в 1964 – 1966 годы работал учителем Толмачевской средней школы, «где по ходатайству коллектива учителей с него была снята судимость». Окончательно реабилитирован только в 1988 году с формулировкой «Дело прекращено, так как нет состава преступления».
Николай Дмитриевич был своего рода предтечей другого «антисоветчика», также связанного с Лужским районом, но гораздо более известного общественного деятеля. Речь идет о Леониде Ивановиче Бородине (1938 – 2011), директоре Серебрянской средней школы в 1965-1967 годах, осужденного «за антисоветскую агитацию и пропаганду» на 6 лет. После второго ареста и заключения в ИТЛ Перми, он был досрочно освобожден, стал заниматься литературной публицистикой и с 1992 по 2010 год с небольшим перерывом работал главным редактором журнала «Москва».
С 1966 года Н.Д. Солохин сотрудничал в газетах Всеволожска «Невская заря» и «Всеволожские вести», был одним из учредителей объединения «Писатели Ленинградской области и Санкт-Петербурга», в соавторстве с И.Венцелем выпустил книгу «Всеволожск».
Многие произведения Солохина написаны на автобиографическом материале, в том числе на тему ГУЛАГа. Последние отличаются тем, что Солохин делает акцент не на трудностях лагерной жизни, «не на унижении личности, но показывает, какой интенсивной интеллектуальной жизнью живут его герои».
Н.Д. Солохин автор сборников рассказов и нескольких романов. Он был награжден званием «Отличник печати» и нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской области». Помимо активной литературной, журналистской и краеведческой работы, он с 1968 года руководил Всеволожским ЛИТО «Ладога».
В литературно-художественном сборнике поэтов и прозаиков города Всеволожска «Ладога», изданном в Ленинграде в 1990 году, Солохин поместил эссеистический цикл «Мимолетности». В него вошли 11 небольших заметок, миниатюр, очерков, включая рассказ «Жестокость».
Рассказ связан с периодом учительства Солохина в Толмачевской средней школе. Сегодня он может быть интересен рядом сведений, касающихся истории лужского судоходства, темы, ставшей актуальной для лужского краеведения. В нем рассказывается, как в жаркий летний день Николай Дмитриевич с женой отдыхали у воды на реке Луге, предположительно в деревне Муравейно.
Дело было в июле, самом жарком летнем месяце. Отдыху мешало обилие слепней. Приходилось отмахиваться и беспрерывно шлепать себя по телу. Ради развлечения оглушенных насекомых собирали в кулак и опускали под воду. «Слепни не проплывали и десятка метров: только расходящиеся круги возникали там, где они плыли».
На следующий день Солохины решили прервать свой отдых и возвратиться в Толмачево на катере »Зарница», ходившем между Толмачевом и пристанью Хилок.
Вот как описывает Николай Дмитриевич свои впечатления от этой поездки.
«Около одиннадцати часов я уже ждал с женой на берегу «Зарницу» – шестидесятиместный дизелек на воздушной подушке, начавший с этого года мулить по речке Луге». Несмотря на неодобрительные взгляды прочих отдыхающих, Солохины сели в «Зарницу», «еще не развернувшуюся в сторону Толмачева. Люди ведь всегда предпочитают оценивать действия по банальной логике целесообразности. Зато мы с женой не томились на берегу и в прохладном салоне, сидя в мягких креслах, полюбовались пейзажами, которых раньше не видели – Луга в своих берегах очаровательна. Даже названия прелестны. У Ивана Лукича, Накол, Слюда, Сивуха, Кобылья Гора, Твердять, Клескуши, Хилок. Впрочем, ничего экстравагантного мы не увидели: Твердять пряталась от речного сглаза в глубине лесистого берега, а местные жители были суховаты лицами и характерами. Загорелые и морщинистые щеки туземцев были замкнутым миром, обращенным вовнутрь своей жизни.
Обратный путь был тих и уныл. Частые крутые повороты реки не позволяли «Зарнице» разлететься, капитану то и дело приходилось включать носовые рулевые сопла – вееры брызг туманили стекла, закрывали вид на берега».
Далее следует возвращение к теме слепней, объясняющее, почему в названии рассказа присутствует слово жестокость. Солохин обратил внимание на слепня, который все ползал и ползал по оконному стеклу в надежде найти выход наружу. Затем придавленный через газету слепень с поврежденным хитиновым тельцем упал в корытце под стеклом. Через некоторое время искалеченный слепень стал вновь подниматься вверх, цепляясь за стекло двумя уцелевшими лапками. «Смотрите, он все еще жить хочет, он все еще цепляется!
Думаете, я не понял тогда, что такое жесткость? Еще как!.. Вчера, например, я погубил, может быть, не меньше сотни слепней, скормил их рыбкам. Но вчера я не был жесток. Мы противостояли друг другу. А сегодня я придавил единственного слепня, который не докучал мне даже, – и этот мой поступок был актом страшной, изуверской жесткости: я потешил себя с беззащитным врагом!
И пока мы ехали, на душе было гадко».
Кто-нибудь, прочитав эти строчки, скажет: «Подумаешь, слепня раздавили, трагедия». Но надо помнить, что у человека, хлебнувшего несколько лет лагерной жизни, может возникнуть обостренное чувство гуманности, трагического восприятия любого неоправданно жестокого поступка.
Однако наш очерк вызван не печальной участью слепня. Для нас, краеведов, этот рассказ ценен подробностями, касающимися самого знаменитого водного маршрута Лужского района в 1960-1970 годы. Привлекают загадочные и в чем-то экзотические названия ряда пристаней, давно исчезнувших с карты района. Кто теперь может объяснить, почему одна из пристаней называлась «У Ивана Лукича», кто такой был этот самый Иван Лукич? Где находились пристани «Слюда», «Сивуха», «Кобылья Гора»? Да и так ли много знаний скопилось о Клескушах, Хилке, Твердяти, Наколе. Да и о самой «Зарнице», уверен, могут найтись примечательные сведения.
Следует еще раз подчеркнуть, что ходатайство педколлектива Толмачевской школы о снятии с Н.Д. Солохина судимости определило поворот в его судьбе. К сожалению, мы располагаем только его портретами в пожилом возрасте. Может быть, в школе или у кого-нибудь из местных жителей найдутся более ранние фотографии Николая Дмитриевича. Пожалуйста, сообщите об этом в редакцию «Лужской правды».
В заключение надо признать, что район много потерял, утратив водные маршруты, которые могли бы использоваться в целях отдыха и туризма, в частности по Луге ниже пос. Толмачево. Можно много фантазировать на тему их возрождения, но какие-то практические шаги в этом вопросе нам представляются вполне реальными.
А.В. Носков