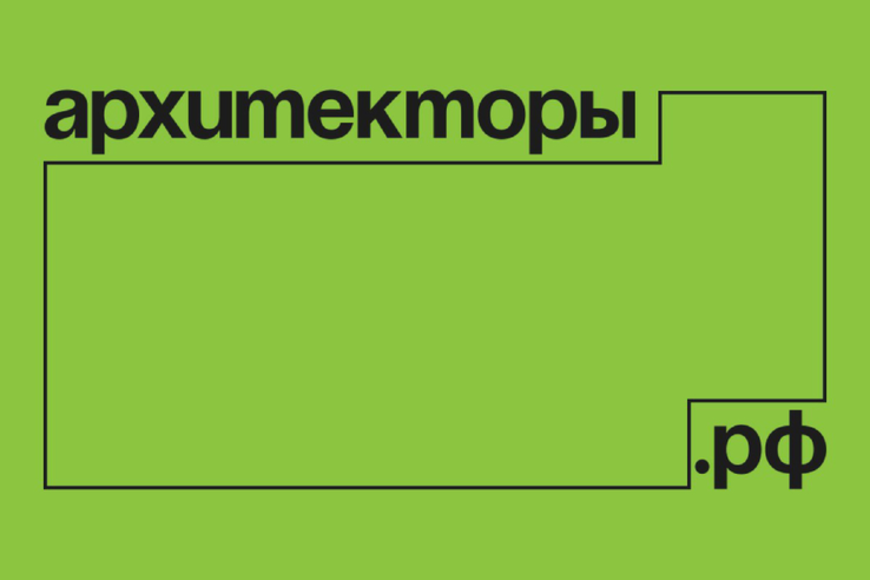В 2022 году Россия торжественно отпразднует 350-летие со дня рождения Петра Великого – первого императора Российского государства, царя-новатора, царя-труженика, коренным образом изменившего историческое развитие страны. Указ об этом подписал президент РФ В.В. Путин.
Сегодня мы начинаем серию публикаций о местах и событиях, происходивших в лужском крае, которые связаны с именем Петра Великого. Первый материал посвящен древней деревне Самро, примечательной тем, что в ней в 1700 году останавливался Петр I во время похода под Нарву.
Деревня Самро находится на юго-восточном берегу одноименного озера, на дороге Осьмино – Сланцы. В древности здесь находился центр Песьего погоста Сумерской волости. Возникшая при погосте деревня до 1910 года также называлась Песьей, затем получила новое официальное название – Алексеевское. Но это название так и не прижилось. В народном обиходе деревню продолжали именовать то Песьей, то Самро. В документах 1940-х годов эти названия иногда писались вместе, через дефис: д. Песье-Самро.
О древности Самро свидетельствуют многочисленные курганы, расположенные в окрестностях, в том числе и в непосредственной близости от сохранившегося здания церкви. С конца XVIII века д. Самро относилась к Гдовскому уезду Санкт-Петербургской губернии, была вотчиной императорской семьи, в частности, одно время принадлежала императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II.
История храмов Песьего погоста до сих пор остается малоизученной темой. Известно, что первые сведения о находившейся там древней церкви относятся ко второй половине XVI века. В справочнике «Земля Невская Православная» указано, что церковь была деревянной, освященной во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Упоминание о ней впервые приводится в Писцовой книге 1576 г., последнее сообщение относится к 1660 г. Возможно, Покровская церковь в Самро была уничтожена в ходе русско-шведских пограничных конфликтов конца XVII века.
Следующий храм на Песьем погосте появился лишь в 1737 г. Он был освящен во имя Воскресения Христова. Строили его на средства прихожан. Эта деревянная церковь была восстановлена после пожара в 1756 г. и простояла на данном месте полных два столетия.
Подробного описания этой церкви и ее фотографий не сохранилось. Известно, что это был однопрестольный храм, рубленый, на каменном фундаменте, с купольным перекрытием алтарной части, полуциркульными сводами, колокольней, стены его снаружи были окрашены. Известно также, что с 1849 г. при храме была открыта церковно-приходская школа.
Церковный приход уже во второй половине XIX века был довольно многочисленным, в него входили деревни Будилово, Вагошка, Извоз, Глиненка, Славянка, Горестицы, Замошье, Жог, Новоивановское, Мхи, Шимы и др. В самой деревне Песье находился 71 двор, другие наиболее крупные деревни – Горестицы (48 дворов), Жог и Славянка (в каждой по 27 дворов). К концу XIX века деревянная Покровская церковь, очевидно, оказалась мала для многолюдного прихода, и было решено воздвигнуть рядом с ней новый, более поместительный каменный храм.
Разработку проекта каменной церкви на Песьем погосте произвел гражданский инженер Семен Иванович Андреев (1863 – ок. 1930), который, кроме ведения архитектурной практики, являлся членом или руководителем ряда благотворительных обществ. Он был создателем разнообразных по назначению построек, включая санаторий в Малой Вишере. Церковь в Самро является ярким примером церковных зданий, построенных С.И. Андреевым в Санкт-Петербургской губернии. Ее проект был разработан в 1901 г., строительство окончено к 1909 г.
В существующей литературе каменную церковь в Самро именуют во имя Вознесения Господня. Однако в других источниках этот храм называется, как и его деревянный предшественник, Воскресенской церковью, что более соответствует традиции преемственности посвящения при замене старой церкви на новую.
Архитектура каменного храма в Самро решена в национальном стиле, как его понимали русские зодчие конца XIX – начала ХХ веков. Ярким представителем этого стиля был В.А. Косяков, создатель Морского собора в Кронштадте и Покровской церкви в д. Козья Гора, расположенной неподалеку от д. Самро, на северном берегу Самровского озера (Сланцевский район). Церкви в Козьей Горе и Самро строились практически одновременно, но церковь в Самро мало чем походит на козьегорскую, разве что сочетанием шатрового верха колокольни и шлемовидной церковной главки.
Храм в Самро больше напоминает церкви, построенные по проектам А.П. Аплаксина, например, в деревнях Вычелобок и Новое Островно. Это касается пропорционального решения нижнего и верхнего ярусов церкви, оформления дверных и оконных проемов, других деталей декора. Но в отличие от аплаксинских построек, Воскресенская церковь в Самро выглядит подчеркнуто монументально благодаря объемам колокольни и церковного барабана, напоминающих крепостные башни.
С освящением каменной церкви надобность в деревянной Воскресенской церкви отпала. В 1914 г. она была закрыта. В начале 1930-х годов служила зернохранилищем, в 1937-1938 гг. была переделана под клуб. После войны не использовалась. Ее, полуразрушенную, снесли в 1956-1957 гг. по просьбе председателя местного колхоза «Красный Самряк».
Закрытая в 1939 г. каменная Воскресенская церковь в Самро действовала в 1942-1957 гг. До начала 1990-х годов она стояла во всей своей целостности, с главками и крестами. В 1993 г. на храм перекинулся огонь от горящего соседнего дома. Возникший пожар уничтожил церковные верхи: купольное перекрытие барабана, шатер и главка колокольни.
В 1965 г. в редакцию Всесоюзного радио пришло письмо от жительниц села Самро Т.Н. Степановой и М.Ф. Федоровой. Они решили написать его в ответ на передачу о том, как бережно сохраняются памятники старины в г. Суздале, и рассказали, как обстоит дело со старыми храмами в их деревне, в надежде, что в Москве что-нибудь сделают для их сохранности.
Вот строки из этого трогательного письма двух наивных женщин (в сокращении, орфография и пунктуация авторские): «Слушая по радио вашу передачу о том, что <…> счастливые люди ездят по разным городам и селам и смотрят красоту памятников старины [нам] очень понравилось суздальское прошлое <…> так бы и хотелось рядом побыть <…> Вы просите написать, у кого что сохранилось из прошлого <…> Это очень хорошо было бы, если бы некоторые люди ценили работу людей [прошлых времен], как всякая работа делалась вручную и не было электричества и как работал каменотес и подумал бы каждый, идя громить какое-либо здание. Вот, например, у нас в селе была деревянная церковь, построенная Петром I <…> ножовкой и топором, шестиугольная <…> Ну, что же, церковь переделали на клуб и во время войны она, якобы, сгорела <…> Площадь была красивая <…> а теперь бурьян, хлам разный. Это посреди села <…>
И еще <…> церковь поставлена <…> красивая, по последнему слову техники [каменная Воскресенская. – А.Н.], три иконостаса, отделка и позолота словно вчера нанесена <…> Очень жаль всего того, что там было и все выбросили, растащили. Иконы так красиво писаные на дорогом дереве, рублевым узором нанесена позолота, словно кружева <…> люди годами работали, а они разгромили вмиг. Приезжали из Ленинграда посмотреть и были очень поражены такому неряшливому отношению к церкви. Совхоз в церковь сыпет зерно «хранить», в 57 году они ключ от верующих отобрали, а в обл. исполком написали, что верующие сами отдали. Народ хочет, чтобы они хотя бы к тому что осталось по-человечески относились, не ломали. Пусть как память о наших отцах и дедах постоит <…> И там же площадь у церкви. Там липы вековые, ель, тополь и что же, подъезжают машины, землю размесили, соляркой залили и тракторами задевают за эти деревья. А они заветные, и у всех такое бездушное отношение, что хочется плакать».
Заканчивается письмо просьбой помочь навести порядок и не передавать «по радио, кто писал и просил».
Письмо для рассмотрения было направлено в областные инстанции. В итоге все осталось по-прежнему. И все же возможно, что обращение жителей деревни на радио сыграло свою роль, помогло дальнейшему сохранению храма. Даже сегодня каменная Воскресенская церковь производит сильное впечатление, особенно при взгляде на нее с дороги при подъезде со стороны деревни Рель.
Архитектуру часто называют застывшей музыкой. Несмотря на утраты, храм в Самро подтверждает справедливость этого сравнения. Перед нами величавая музыка, отражающая силу русского характера, мощь той самой национальной идеи, поискам которой уделяется так много внимания в современной России.
P.S. У церкви в Самро есть будущее. Настоятель храма отец Павел (Гринько) рассказал о предстоящей подготовке архитектурно-исторической справки для включения объекта в программу реконструкции.
А.В. Носков, председатель Лужского общества краеведов